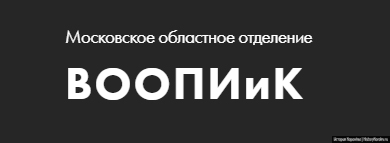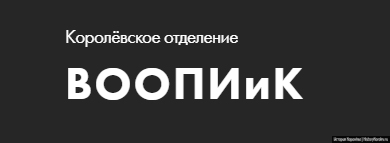Дети войны: деревня Власово
Несколько тысяч калининградцев, костинцев, болшевцев и жителей малых деревень на территории нынешнего Королева ушли на фронты Великой Отечественной войны. В родных домах остались их семьи – родители, жены, дети. Жизнь в тылу не остановилась, но изменилась до неузнаваемости: все силы и средства были брошены на борьбу за победу. Ежедневный быт простых людей наполнился непосильным трудом, страхом и голодом. Огромное число детей было лишено детства – они стали «детьми войны».
В деревне Власово при платформе Валентиновка ребятишек всегда было полно, почти все семьи многодетные. Ценнейшим свидетельством тех лет стали воспоминания семьи Власовых, собранные и написанные не так давно Татьяной Сергеевой (при участии ее матери Елены Владимировны Сергеевой). В основу легли рассказы бабушки – Веры Павловны Чувиловой (урожденной Власовой). Незначительные неточности рассказа, записанного для сохранения семейной памяти по прошествии стольких лет, нисколько не могут умалить его значимости для городской истории. В полной мере передан быт и атмосфера подмосковной деревни, в которой не было боев, но война была.
Необычные воспоминания обычной семьи Власовых из Власово (так уж совпало) публикуются с небольшими правками и дополнениями.
Из воспоминаний моей бабушки Веры о войне
Прямым попаданием
Война началась для бабушки тем сентябрьским днем 1941 года, когда папа ее, Павел Иванович Власов, собрался утром в военкомат, а мама Аня пошла провожать его. Трехлетняя тогда бабушка Вера и ее два брата – 5-летний Юрка и 10-летний Валька, остались дома с крошечной, только что родившейся Лидочкой и не знали, куда пошли родители. Хотя Валька потом как-то хвалился, что он-то знал, но мамка строго-настрого запретила ему малышам говорить – чтоб без лишних слез. Наверное, это и стало знаком войны – без лишних слез…
Жили они все в Подмосковье, в Валентиновке, это прямо рядом с Болшево, теперь это город Королев. Дом стоял недалеко от леса, да и речка тоже недалеко – место замечательное, зеленое, травами пахнет и соснами (прим. на нынешней ул. Гайдара). По соседству с домом Власовых находилось много загородных дач известных актеров. Дачи были красивые, на участках – клумбы. Дети бегали к тем домам полюбоваться на цветы и на людей: там и патефоны заводили, и гости приезжали на машинах. На участке Анны и Павла Власовых никаких красот не было – откуда? Четверо детей да плюс сестра Анны Маша, тогда еще подросток, что была у нее на попечении с семи лет, после того как родителей раскулачили и убили. Жилось им тяжело, начинали с нуля – из раскулаченных да поповских. Ни тех, ни других не жаловала советская власть. Дом был небольшой, надо бы побольше для многодетной семьи, только вот собрались строиться – и война…
Какая война – до сегодняшнего дня пока еще в голове не укладывалось. Вон как мирно смотрит с фотографии на стене Павел – в рубашке белой, улыбается, держа на руках крохотную пухлую Верочку с бантиком и ямочками на щечках. Рядом стоит большеголовый серьезный Валентин, а с другой стороны – белый-белый щуплый Юрка. Фотография довоенная, Верке в годик сделанная в ателье. Дети, не привыкшие фотографироваться, да еще и в ателье, смотрят волчатами, только отец пытается улыбаться. Тогда еще и Лидочки не было. А с Лидочкой фотографии в ателье сделать не успели – война… Ах, если б не война….

Интересно, что знали о войне Юрка пятилетний да Верка трехлетняя? Война была страшным воем из радиоприемника над какими-то далекими городами с непонятными названиями, грозным голосом какого-то дяди, да бесконечной темой в разговорах взрослых весь этот месяц, всего-то месяц. А вокруг – ну какая война? Теплая осень, можно еще босиком бегать. Конечно, дома не сиделось. Мать из дома пошла отца провожать, дай Бог к вечеру вернется. Братья выбежали во двор, потащив за собой маленькую Лидочку, ну и Верка побежала за ними.
Как оказалось, хорошо, что из дома-то выбежали. Когда в поле играли, услышали вой вражеских самолетов, прям как по радио. Они сразу в лесок от страха, уж больно громко выло. Еще с июля 1941 года подлетали немцы к Москве. Совсем близко подлетали и бомбили. Не привыкли дети еще к этим бомбежкам, нечастыми они были, вот и не казались страшными – пока… То-то и дело, что пока. (прим.1)
Надо же было так случиться, что именно в тот день, когда Анна пошла провожать Павла на фронт, одна из этих нечастых шальных бомб попала в их дом – прямым попаданием. И на месте дома сразу образовалась большая воронка и груда горящих обломков. Как вой стих, прибежали дети домой – а дома-то нет. Долго-долго стояли и смотрели, как догорал он, верней, даже не он, а то, что осталось на месте дома – догорало. Бабы бегали, тушили, что-то кричали, кто-то плакал. Дети стояли и смотрели на это, как во сне. «Погорельцы, вот погорельцы вы теперь», – доносилось до них, но осознать, что это к ним относилось, пока не получалось. Так до вечера и стояли – голодные, все ждали, что дом появится, вот-вот появится, ведь был же он здесь, еще утром был – и все добро, пусть скудное, все ж было…

нижний ряд – двое детей деревни Власово, Вера, Юра. 1941 год.
Но дом не появился. Пожар становился все тише. Подходить к яме соседские бабы запретили: вдруг что еще там рванет. Да и страшно было: самой смертью тянуло из этой воронки. Тогда пошли дети к бабке Наталье отцовой матери, что почти рядом жила. Пришли, а там горе: сестру их двоюродную Тамару, которая чуть помладше Вальки была, контузило осколком от той самой бомбы, их дом разбомбившей. Надо же было ей именно в этот момент, за несколько минут перед налетом к Вальке и Юрке пойти. Выбегала, говорят, из дома и на глазах у своей матери упала. Эх ты, Тамарка… То, что осталось – страшно-то как… (прим.2) Дети – Валька, Юрка и Верка, не знали, куда им деться от этой вдруг сразу, прямым попаданием, навалившейся войны, беды и смерти. Только Лидочка заснула, совсем обессилев от голода и так ничего и не добившись от переставшего обращать на нее внимание мира.
***
Вернувшаяся в ночи Анна завыла белугой: ни дома, ни детей, ни мужа – вот так, в одно мгновение! Но дети, забившиеся в страхе в угол в доме у бабки, услышали материнский плач и тоже с плачем выбежали. «Горе-то, горе-то какое! – вопила Анна в ужасе. – Ой, Валька, Юрка, Верка, Лидка! Живы, живы все, радость-то какая!» – завыла она тут же, не меняя тона, хватаясь за светлые стриженные головы и не понимая, что происходит на свете: дом разбомбили, муж ушел на фронт, а в сердце вдруг радость хлынула: дети живы, все дети живы!
«Ну и куда ты теперь с ними? – спросила свекровь. – Я не пущу, ко мне некуда, у нас самих теснота какая. Да Тамарку вон оглушило сегодня, осколком от твоего дома-то. И чего она с твоими не побежала сразу? Здорова была б девка… И чего она к вам в дом-то поперлась? Проклят он будь, дом тот». Бабка Наталья плакала по внучке: жалко-то как… На невестку глаза б не смотрели – она тут с оравой этой… И четверо маленьких внучат тоже в голос ревели. Не только от горя, а вдруг по непонятным причинам почувствовав себя виноватыми: они-то остались живы, а ведь их дом-то был, погибнуть-то должны были именно они. Казалось, все так почувствовали, даже крошечная Лидочка. Она ревела, проснувшись от горя ли, от голода, от страха, от всего этого кошмара, навалившегося сразу – прямым попаданием…
Незваные гости артиста Жарова
«Мам! Я есть хочу!» – тихонько попросил белоголовый Юрка, улучив минутку передышки в плаче баб. «Молчи! Какое есть, нам жить-то негде», – одернул его Валька, ставший сразу лет на десять старше. «Мамка, а я это, пойду, гляну на дачи актерские, на «Чайку» – может, какой дом пустой есть? А вдруг, какой открыт? Ну – переночевать только?»
Пустым оказался дом артиста Жарова – того самого, что Петра I играл. Верней, это был не дом, а дача летняя, но зато единственная из всех дач – с печкой. Там и поселились. На одну ночь сначала, а потом так и остались на свой страх и риск: выгонят – не выгонят. А куда деваться? Да, не по закону, но какой на войне закон? Закон один: выстоять и выжить. (прим. 3)
Первые дни Анна просто не могла ничего делать: детей переодеть не во что, есть нечего, ни денег, ничего. Одно слово – погорельцы… В чужом доме было боязно и неуютно – да еще в чьём! Слышала Анна сквозь пелену горя своего, как Валька, с чьих-то слов наверняка, шептал Юрке: «Неровен час сам Жаров, сам Петр Первый войдет и выставит нас всех за дверь, да еще Сталину нажалуется! Тихо сиди, не ори здесь, не дерись, не у себя дома, чай. Если придет, скажи, что дом разбомбило прямым попаданием, батька на фронте, не выгоняй нас, дяденька, понял?» (прим. 4)

Господи, как же хотелось уйти хоть куда, но куда? Можно в другой такой же дом, и бояться других хозяев – пусть не Жарова, пусть не Петра Первого. Какая разница, кого бояться. Какая разница, кто придет завтра – хозяин злой или снаряд непрошеный. Не о том надо думать, не о том. Кормить-то их чем? К бабке попрошайничать уж стыдно посылать. Работать? Да кому она, белошвейка, да еще с оравой такой в военное время нужна-то. Маша хоть изредка из Москвы ездит, еду возит, да поезда все реже, и она там работать пошла. Хорошо, хоть Маша пристроена, одним дитем меньше. Дети чувствовали, что мать на грани отчаяния, вели себя тихо – страх ведь сковывает. Только б мамка работу нашла, повторяли все вслед за Валькой, как молитву, едва ли осознавая смысл этих слов.
Бог дал, и скоро Анне очень повезло – ее взяли на работу в лётную столовую посудомойкой. Столовая находилась рядом с аэродромом в Чкаловском, это километров двенадцать по прямой, каждый день не находишься, поэтому уходила мать на неделю. Сейчас это кажется чем-то нечеловеческим, но благодаря тому, что оставалось и доставалось на работе, они все выжили. В столовой Анна собирала с тарелок объедки, благо, летчиков кормили хорошо, и на свой страх и риск сваливала их в бидон. Это строго запрещалось, могли посадить в тюрьму или даже расстрелять, но так делали почти все посудомойки. Летчики же, как потом рассказывали, специально часть своего пайка недоедали, знали ведь, что бабы этим детей накормят.
Анна прятала этот бидон в условленном месте – под деревом, недалеко от уборной. Валька по темноте должен был прибежать в это место – двадцать три километра туда и обратно, – найти бидон и принести домой, все распределить на неделю, спрятать запасы, а потом – накормить Юрку, Верку и Лидочку.
Всяко случалось: бывало, матери не удавалось ничего собрать или вынести в условленный день. Кто-то следил, бабы в столовой говорили, что сегодня облава, лучше не соваться. И тогда прятался Валька под деревьями и ждал напрасно, ждал-ждал, мерз-мерз, да и мчался домой ни с чем, а дома получал рев голодных младших – как им объяснишь, что есть просто нечего? Тогда мать чаще всего сама на следующий день приходила – в ночи, конечно, чтоб работу не пропустить. Дети, не бросишь их голодными-то. И в ночи же обратно. А бывало Вальке и того хуже: найдет он бидон, бежит с ним домой, а по дороге нападут ребята постарше, отнимут бидон да еще и побьют. «Нельзя ведь так, бандиты ведь, сволочи», – ревел оскорбленный и подавленный Валька. Да, бандиты, но голодные, такие же голодные, как и ты сам, и злиться на них – что толку? Снова идти было страшно, но Валька шел – другими путями, чтоб не напали больше, надо же прокормить всех домашних. Иногда Юрку с собой брал – вдвоем надежней, на пятилетнего оборванца вряд ли кто нападет. Верке все хотелось с ними за едой пойти, но не брали ее – двадцать три километра по лесу, мала еще, говорили…

Так и зиму прожили – самую тяжелую, когда немец совсем у Москвы стоял, когда самолеты не переставая летали и бомбили. «Не бойтесь! – говорила мать. – Дважды в одну воронку не попадет». Дети не понимали, почему в одну воронку, и ходили смотреть на ту воронку – даже снег ее до конца не завалил, какая она огромная. А боялись бомбежки все равно, но уже как-то не так боялись. Бояться очень долго и очень сильно просто невозможно, страх стал каким-то другим, внутренним и неярким. Голод был сильней страха или просто голод лучше запомнился? Или в детстве им трудно было разобрать – что это: страх, голод, горе? – почему им так плохо…
В лютые морозы, когда из дома не выйти было, а мать сутками работала, – снега натопят, на пол польют, и он сразу катком застывает – кататься можно. Так и катались – кто до стены доедет и не упадет. Научились ездить и не падать – надо же было им одним как-то себя развлекать. Бабушка Вера помнит, что любимым ее занятием было даже не кататься по ледяному полу, а лизать печку. Печь была беленая, чуть солоноватая и теплая. Остававшийся на языке мел давал какое-никакое ощущение еды. Такая большая-большая белая конфета. Конечно, мать гоняла, орала: «Сожрешь печку – что делать-то будем?!» Или: «Где Верка? Опять притихла? Опять печку лижет!» – и при этих словах маленькая Вера начинала дуть изо всех сил на то место, что только что лизала: вдруг высохнет да видно не будет. Но мать замечала – ведь печка становилась все более и более обшарпанной. А страсть как хотелось есть, голод был сильнее страха, да и занятие это – единственное, что успокаивало. Мамки не было, ласки не было, а печка – большая и теплая – была, и так и тянуло к ней прижаться и согреться.
***
Никто их из дома не выгнал. Артисты уехали в эвакуацию, и в первую военную зиму некому было их выгонять. Правда, на второй год приехал Жаров – кто-то ему в эвакуации нашептал, что на даче-то его поселились непрошеные гости. Так вот, приехал он, зашел в дом, а там Юрка, да Верка с Лидочкой. Юрка шестилетний печку топит, ждет, что Валька вернется, еды принесет. Жаров вошел, сел, посмотрел на них…
– А кто здесь старший? — спросил.
Белобрысый худенький Юрка на свои шесть лет ну никак не тянул, но сказал:
– Пока я, но щас Валька придет.
– А Валька — кто?
– Это брат наш старший! – обидевшись, ответил Юрка. Вот тоже, видно, что не местный, Вальку тут все знают!
– А мать-то у вас есть, голытьба? – спросил Жаров.
– Мамка есть, но она работает, а папка на фронте, а дом разбомбило – прямым попаданием, не выгоняй нас, дяденька! – выпалил Юрка, как Валька, на всякий случай, научил.
Жаров обвел глазами комнату: только дрова да хворост, и вещей-то у них никаких нет.
– Прямым, говоришь, попаданием?.. Н-да… прямым попаданием… А если вы мне дом спалите? – все еще грозно спросил он.
– А мы не спалим, мы посторожим, чтоб никакой вор не залез! И чтоб не разбомбило! Мамка говорит, два раза в одну воронку не попадает! – с жаром бросился обещать Юрка.
Так непонятно как-то и все еще грозно, казалось, Жаров смотрел по сторонам – на стены когда-то его, а теперь пропахшей чужим духом дачи. В какой-то момент Верке привиделось, что это он на печку так смотрит, на ее любимую печку, ею вылизанную. Вот сейчас из-за этой печки всем им плохо и будет.
– Дяденька, я не съем твою печку, правда не съем! Правда-правда, не выгоняй нас!
– Не съешь? – со смехом ли, со слезами ли уже спросил Жаров. – Ну, если не съешь, оставайтесь, живите, куда вас теперь деть?
Жаров посидел-посидел, посмотрел-посмотрел, махнул рукой – и уехал. Потом через пару дней приехал какой-то дядька от него, еще и хлеба привез, и сала, и даже сгущенки. Вера была уверена, что это и ей тоже, чтобы она печку не съела.
Так и прожили на этой даче полвойны, пока Валька с отцом новый домишко не построили на скорую руку – метрах в 20 от воронки. Но это было уже в другую пору, когда фашистские самолеты почти не долетали до Москвы, и когда, как поговаривали, артисты вот-вот из эвакуации вернутся и на дачи съезжаться начнут. Надо было незваным гостям покидать дачу Жарова.
Бог дал – Бог взял, попу на рукавички
Одним из самых тяжелых воспоминаний бабушки было то, как умерла Лидочка. Верней, даже не то, как она умерла, а то, как это было обыденно и оттого страшно. Сестренке годик всего был или около того. Болела сильно – воспаление ли легких, простуда ли сильная – лечить-то нечем было. Отец как раз на побывку пришел, а тут тельце вместо малютки-дочки, уже не дышащее… Отец в слезы, дети ревут, а мать им: «Чего ревете-то все? Чего ревете-то? Бог дал – Бог взял, попу на рукавички». То, что это пословица такая, дети потом узнали. Тогда представляли слишком уж явственно, как Бог взял да и отдал какому-то попу на рукавички их маленькую сестренку. «Она вот отмучилась, а нам еще сколько мучиться предстоит?» – материны слова казались такими жестокими, просто мертвыми. Ну как она, мать, такое говорить-то может?
Война меняла представления о добре и зле, о мысли невозможной и мысли приемлемой. Одним страданием меньше, Бог дал – Бог взял… И маленький-маленький гробик, который отец сам сколотил из обломков досок, коробочка, помещавшаяся у него под мышкой, – так и нес он ее к лесу, к кладбищу местному. Могла ли эта крошечная коробочка вместить страдание маленькой, проигранной войне жизни?
Хоронили без слез – так мать сказала. Только папа плакал. Ему можно, он солдат. Он сейчас поплачет, а потом сильней будет бить фашистов. Но после побывки той Павел уже не был на фронте, а работал на военном заводе, днем и ночью. (прим. 5) Анна так и работала в лётной столовой, дети росли. И даже родилась во время войны еще одна Лидочка. Бог дал, сказала мать.
День Победы бабушка помнит очень отчетливо, ей тогда уже было почти семь лет. Все кричали – впервые радостно, а не от страха или боли. Люди танцевали на улице и пели, все обнимались и целовались – победа! ПОБЕДА! Они, дети, бегали целый день по улице и кричали только это слово – ПОБЕДА!
Дальше была еще одна война – с голодом 1946 года, с карточной системой, по которой продуктов ну никак не хватало на их довольно большую семью. А отец как раз в это время заболел и умирал почти: весил 42 килограмма. Был на спине у него какой-то ужасный фурункул, 101 головка, так мать говорила, и дети сразу запомнили – так много это казалось, 101. И сам он никак не проходил, фурункул этот, сгорал от него отец. Мать плакала уже дома, но детям строго-настрого запретила отцу говорить, что она рыдает, или самим слезы лить при нем. Она продала все, чтоб покупать ему только появившийся тогда пенициллин. Дома остались голые стены, даже белья постельного не было. Обуви не было никакой, только если отдаст кто, но тогда, в 46-м, и не отдавал никто, мало у кого что было. Бабушка помнит, как она, семилетняя, каждый день бегала к отцу в больницу, а он отдавал ей свой кисель – крахмал да вода, но для нее тогда это было лакомство, и она не задумывалась даже, что отец в нем нуждался больше, чем она, – чтоб выздороветь…
Отец потихоньку стал выздоравливать, вернулся из больницы и начал даже в весе прибавлять, хотя на карточках-то трудно это было. Тут опять напасть, и снова на Лидочку, на новую уже, что, как дети решили, взамен той, Богом взятой, родилась. Бабушка Вера помнит только, как бесконечно рвало Лидочку, а мать все пыталась поить. Но маленькая ничего не пила и не ела, и даже не плакала уже. «Мама! Мама, она же умирает! Надо ей лекарство!» – дети предчувствовали новую беду, только вроде вот-вот нависшая отцовская смерть чуть отступила. Отец схватил дочурку на руки и, еле двигаясь еще, пошел в город, в больницу. «Положи, не донесешь, я пойду!» – сказала мать. И пошла. Отец за ней, конечно. Только вот не донесли они Лидочку до больницы, умерла она на руках у них… Принеся дочь домой, мать опять повторила все то же страшное «Бог дал – Бог взял».
– Ань, а ведь это моя смерть ее унесла, я чую, – сказал Павел жене виновато и подавленно.
– Ну и слава Богу, что смерть промахнулась. Без тебя и мы б все померли, а ее жалко, но без нее проживем. Господь милостив, что ее взял, а тебя оставил, – ответила его суровая жена.
И опять хоронили без слез, так мать наказала. Гробик был уже чуть побольше, но снова отцом своими руками сколоченный. Мать даже обшила его, и накидушку сшила – все ж не война уже. Обуви вот, правда, не было – но ничего, лето, босиком шли за гробом, который отец опять нес на руках, и шел довольно твердо, только изредка пошатываясь…

Весь 45-й и 46-й годы в школу ходили не учиться, а за куском хлеба, который давали на большой перемене, с двумя сладкими таблетками, в кусок вставленными, – от глистов. Этот кусок хлеба был их завтраком, а иногда и обедом. В школу ходили мимо огромной воронки, которая всё еще стояла не засыпанной на месте их бывшего дома. Дойти до школы каждый день было победой – по темноте, 2 километра – мимо немцев пленных, рядом работающих. Больше всего дети мертвых немцев боялись, которые на Валентиновском поле по утрам лежали. «Чего их бояться, они же мертвые?» – недоумевала мать. Но дети боялись. И как же хорошо стало, когда увезли их оттуда. Еще одна победа.
А еще одна победа была тогда, когда карточки отменили, и отец пришел домой с пятью буханками хлеба, вывалил их на стол и сказал: «Ешьте! Вдоволь! Сколько хотите!» Испуганные дети не могли поверить и переспрашивали: «Пап, правда? Правда, можно сколько хотим?» И бабушка Вера говорит, что никогда не забудет лиц Юрки и Вальки, когда они налегали на этот хлеб. Ели его большими кусками, а не по крошечке за щекой, чтоб подольше, как всю войну. Они ели, довольные, а отец плакал – не просто плакал, рыдал, в голос, произнося только: «Ешьте, теперь ешьте!» – и мать его не останавливала.

Мама, расскажи мне о войне
Мама, расскажи мне о войне?
Расскажи? – все детство я просила.
Что я помню – мне 3 года было? –
Что тебе рассказывали – мне –
Про осколок, и как жил без глаз,
Дядя Витя? – Про сестер, про маму?
Про снаряд, воронку, и про вас –
Как вас разбомбило – и про граммы –
Хлеба? И про холод, голод, страх.
И как хоронили двух сестрёнок,
Умерших в войну… И про ура –
Майское – до звона перепонок…
И про страшный год сорок шестой –
Карточки, в четыре смены школа –
Голод, голод, голод – с головой
Накрывающий тоскою голой…
…
Не умела я тогда читать,
Мамин голос был мерилом блага.
С ним война ложилась, как черта –
Волею в характер и отвагой.
Е.В. Сергеева
Послесловие
До сегодняшнего дня было известно только о семи жертвах среди мирного населения нашего города. В ночь с 9 на 10 августа 1941 года фугасная бомба с немецкого самолета упала на приусадебный участок в д. Костино (ул. Горького, д. 26), в результате чего погибли члены семьи Разореновых (Бондаренко Л.К. Позамантир Л.Д. «От пушечных залпов – до космических стартов», Королев, 2008). На основании свидетельств родственников, в этот печальный список мы вписываем девочку Тамару Алексеевну Колпакову (1937-1941) из деревни Власово, которая получила тяжелую контузию от взрыва немецкой бомбы во дворе своего дома и скончалась через некоторое время. Огромную воронку от этой бомбы засыпали многие десятилетия.
У Павла и Анны Власовых было шестеро детей. В Валентиновке сохранился дом Власовых, в котором подрастает уже пятое поколение этой большой семьи.

Верочка, Вера Павловна Чувилова (Власова), уехала из Валентиновки в 1956 году, сейчас ей уже 82 года. Она проработала всю жизнь на Мытищинском машиностроительном заводе, прошла путь от мастера до начальника отдела внешней комплектации, ветеран труда, Заслуженный машиностроитель. Ее воспоминания о послевоенной Валентиновке будут опубликованы в дальнейших краеведческих материалах. Огромная благодарность всем членам семьи Власовых за предоставленные документы и фотографии.
Исследование Валентиновки военных лет продолжается.
Примечания:
1. Первые немецкие самолеты над городом были замечены 22 июля 1941 года (Бондаренко Л.К. Позамантир Л.Д. «От пушечных залпов – до космических стартов», Королев, 2008).
2.Имеются неподтвержденные данные о контузии (гибели) мужчины при падении бомбы в д. Власово.
3.М. Жаров жил в ДСК «Работников Малого театра», а не в ДСК «Чайка».
4. В фильме В. Петрова «Петр Первый» (1937 г.) роль Петра исполнил актерНиколай Симонов, а Михаил Жаров исполнил роль князя Меншикова.
5. П.И. Власов служил в тыловых частях РККА в звании рядового.
Подготовка текста к публикации и примечания М.В. Зайцевой